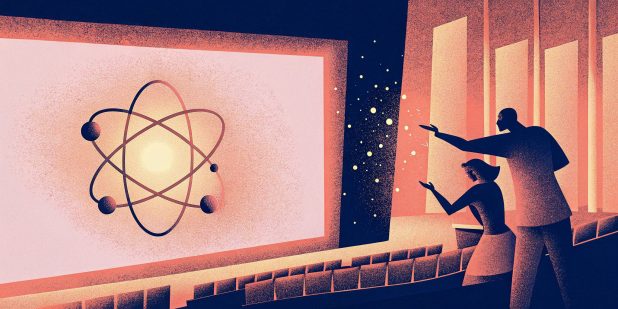4 сентября в Москве состоялась премьера фильма, который был снят в музее «Атом» на ВДНХ. Картина снимает тот покров секретности с событий 1943–1949 годов. «РДС. Россия Делает Сама» — это напряженная документальная драма о гонке со временем, где на кону была безопасность целой страны. Как снять кино о великой тайне, не побывав там, где она создавалась, — в атомных городах? Как оживить события 80-летней давности? Рассказываем о закулисье проекта.
Как Саров стал колыбелью для атомного проекта
Оригинальный проект с элементами постановочной документальной драмы основан на реальных событиях, которые охватывают период с 1943 по 1949 год, и рассказывает о важных этапах, сложностях, победах при создании как первой атомной бомбы, так и отечественной атомной промышленности.
В разгар Великой Отечественной войны, когда исход сражений решала каждая минута, руководство СССР приняло судьбоносное решение. Речь шла о создании собственного ядерного щита. Для этой миссии требовалось особое место — удаленное и засекреченное. Выбор пал на завод в Нижегородской глубинке.

Летом 1947 года Саров бесследно исчез со всех карт страны, сменив имя на таинственные коды: «Объект 550», «База № 112» и не только, а позже стал знаменитым Арзамасом-16. Куратором программы был назначен Лаврентий Берия.
Эту напряженную эпоху решил оживить в своем новом фильме режиссер Владимир Скворцов. Картина, снятая в музее «Атом» на ВДНХ, — нестандартная историческая хроника. По словам Скворцова, уникальность проекта — в его театральной условности.
«Мы не стремились к буквальному портретному сходству. Актеры не играют отдельно Харитона, Берию или Курчатова. Они пытаются примерить эпоху, проникнуться ее духом, — объясняет режиссер. — Эта условность помогает уйти от излишней пафосности и большой ответственности, чтобы вложить в картину сердечность. Это наш осознанный художественный прием, который расширяет границы повествования. Фильм становится своего рода ликбезом — мы рассказываем о времени и людях, причастных к великому открытию».
Запретный город: как сценарист проник в сердце атомного проекта
Автором сценария выступила Анна Рыбина. Именно она провела всю кропотливую работу по сбору материала, общаясь с музеями, современниками Юлия Харитона и изучая закрытые архивы.

«Саров — город закрытый, и достать что-то действительно «вкусное» для зрителя было крайне сложно, — делится подробностями Анна Рыбина. — Погружаясь в архивы, например, Юлия Харитона, я понимала, что все изложено сухим, научным языком. Главной задачей для меня было научиться думать как ученые. Это было самым интересным в процессе».
Сценаристу пришлось самой разбираться в основах ядерной физики и в специфике закрытого атомного города того времени, чтобы переложить сложные концепции на язык кинематографических диалогов. Ее цель была не просто пересказать факты, а позволить зрителям почувствовать время, понять этих «вечных героев атомного проекта»: в чем они были уверены, а в чем сомневались.
«Атомный город — это место науки, — заключает Анна Рыбина. — И если человек занимается ею среди единомышленников в специальном месте, то весь город становится для него лабораторией мысли».
По словам сценариста, сложился ли из всего этого цельный и пронзительный фильм — судить зрителям.
«Играть не человека, а время»: исповедь исполнителя роли Берии
Карэн Бадалов, выпускник физико-химического факультета НИТУ «МИСиС», подошел к роли с неожиданной стороны. «Я не играл Лаврентия Берию, — признается актер. — Сыграть исторического персонажа — задача неблагодарная. Интереснее сыграть эпоху».

По его словам, Лаврентий Берия предстает как неординарная фигура. Он «обремененный властью» организатор, чья феноменальная работоспособность и талант управленца позволили собрать и мобилизовать лучшие умы страны на решение грандиозной задачи.
«Чем больше погружался в эпоху, тем страшнее она становилась, — делится Бадалов. — Но тогда главное было — сделать дело. Все личное отходило на второй план, не было времени выяснять отношения». Личный опыт актера — он бывал в закрытых атомных городах — и техническое образование помогли ему точнее передать дух того времени.
По первому образованию Карэн Бадалов — физик, в 1988 году окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «физика металлов». Однако по специальности этой никогда не работал, предпочтя тут же после окончания института получить профессию актера. В 1993 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС, ныне РАТИ), режиссерский факультет, мастерскую Петра Фоменко. В большом кино Карэн дебютировал еще в начале 1990-х годов, сыграл в ленте «Заложники Дьявола» роль владельца ресторана Варгеза Карапетяна.
Исчезнувший гений: трагедия Юлия Харитона
Анатолий Кот, воплотивший на экране образ научного руководителя проекта Юлия Харитона, столкнулся с противоположной проблемой. Если о Берии написаны тома, то материалов о Харитоне почти не сохранилось.
«О нем известно очень мало, — объясняет актер. — Он был настолько засекреченной фигурой, его полностью изолировали от мира: персональный вагон, круглосуточная охрана. Вне лаборатории у него не было никакой связи с окружением. Харитон исчезает, как Саров с карт. 40 лет забвения — такова плата за миссию, которая была важнее славы и признания».

Этот проект — не столько про исторических персонажей, сколько про выбор, цену и ответственность. Про людей, которые, по словам Бадалова, «не могли позволить себе роскошь сомневаться», потому что от их работы зависело будущее страны.
Кстати, Анатолий Кот не раз сам был в атомных городах, для него это словно клубок спокойствия, за которым скрывается невероятная мощь, но она требует постоянного контроля. Его собственные поездки в ЗАТО запомнились многочисленными проверками, пропускным режимом и чувством погружения в особый мир.
Крупный план и спящий актер: как проходили смены артистов
Съемочный процесс стал испытанием для всей команды. Картину снимали по ночам в музее «Атом» на ВДНХ, который днем всегда открыт для посетителей.

«Ночью сниматься катастрофически тяжело, — признается Анатолий Кот. — Со мной приключился ужасный казус: крупный план, камера была направлена на меня, по сценарию мой герой смотрит хронику на экране, а я заснул. Спящий актер на крупном плане. Но эта площадка стоила того. Ведь там все сделано достойно, красиво и современно».
Спорный прием, но блестящая игра — авторское отступление
После просмотра киноленты зрителей накрыл вихрь эмоций, как и меня. Картина явно задела за живое, но единого мнения не было. Главным камнем преткновения стал спорный режиссерский прием — чтение сценария прямо в кадре. Кто-то счел его гениальной метафорой, другие — недоработанным экспериментом.
Однако в одном зрительный зал был единодушен: игра актеров оказалась безупречной. Артисты идеально вжились в эпоху, а их пронзительный, надрывный драматизм в ключевых сценах буквально заставлял застывать мою кровь и обдумывать каждое произнесенное слово. Именно актерская работа стала той причиной, которая удержала интерес и вызвала всеобщее восхищение.